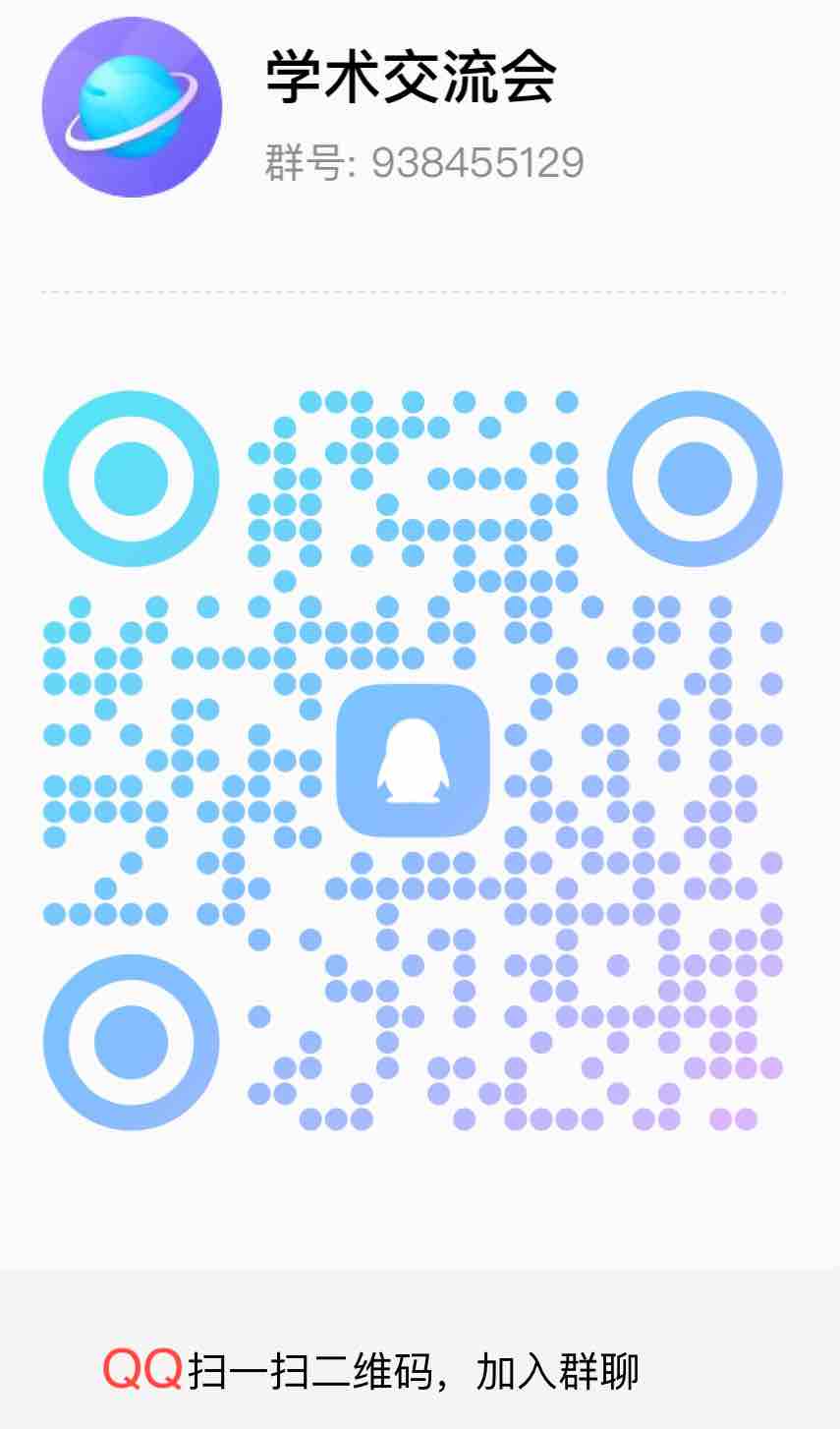[PDF][PDF] Женственность» и «мужественность» как категории русской историософии
ОВ Рябов - Женщина в российском обществе, 1996 - womaninrussiansociety.ru
Женщина в российском обществе, 1996•womaninrussiansociety.ru
Общее для категорий «женственность» и «мужественность» понятие «гендер» в
отличие от термина «пол» отражает не биологические различия мужчин и женщин, но
социокультурные. Оно может быть определено как совокупность социальных
ожиданий, норм, обусловливающих женские и мужские различия в мыслях, чувствах,
поступках (26, с. 79—80; 27, с. 29). Эти нормы могут быть общими для всего социума.
Но гендер всего социума не существует вне своих конкретных форм, то есть при …
отличие от термина «пол» отражает не биологические различия мужчин и женщин, но
социокультурные. Оно может быть определено как совокупность социальных
ожиданий, норм, обусловливающих женские и мужские различия в мыслях, чувствах,
поступках (26, с. 79—80; 27, с. 29). Эти нормы могут быть общими для всего социума.
Но гендер всего социума не существует вне своих конкретных форм, то есть при …
Общее для категорий «женственность» и «мужественность» понятие «гендер» в отличие от термина «пол» отражает не биологические различия мужчин и женщин, но социокультурные. Оно может быть определено как совокупность социальных ожиданий, норм, обусловливающих женские и мужские различия в мыслях, чувствах, поступках (26, с. 79—80; 27, с. 29). Эти нормы могут быть общими для всего социума. Но гендер всего социума не существует вне своих конкретных форм, то есть при решении вопроса о способе бытия тендера мы неизбежно приходим к проблеме его классификации. Среди оснований данной классификации—такие признаки, как национальный (представления русских мужчин о русской женщине отличаются, скажем, от представлений кавказских мужчин о кавказских женщинах), социальный, возрастной, половой и др. Основанием классификации может быть и форма общественного сознания: гендер существует в этическом сознании (например, представление об альтруизме женщин и эгоизме мужчин), эстетическом (отношение к стремлению женщины похудеть), правовом (представление о большей или меньшей предрасположенности мужчины и женщины к различным видам преступлений) и т. д. Существует гендер и в философском сознании как совокупность представлений о предназначении мужского и женского начал в мире, о должном поведении женщины и мужчины, об их месте в обществе, выраженных при помощи своеобразного, присущего только философии понятийного аппарата. Гендер в философском сознании формируется, испытывая влияние других видов сознания; в свою очередь, многие философы, в частности в России, используя категории «женственность» и «мужественность», тем самым принимали участие в формировании общих норм поведения женщин и мужчин. Привлечение для философского анализа категорий «мужественность» и «женственность» имеет давнюю традицию (28, с. 57—60). За столь большим интересом к женственности и мужественности стояла попытка решить мировоззренческие и философские проблемы, и это не удивительно, ибо сам статус философского исследования требовал рассматривать эти категории как «метафизические и космические принципы», пронизывающие все сферы бытия.«Все в мире совершается через историческое соотношение мужского и женского начал и взаимное их проникновение»(4, с. 205). Точку зрения, подобную этому постулату НА Бердяева, можно встретить у многих русских мыслителей последних полутора веков (см., напр.: 16, с. 274; 21, с. 180).
Но не являлось ли подобное использование этих категорий поэтическим излишеством, нарушением принципа «бритвы Оккама», запрещающего без необходимости множить сущности? Выявление данной необходимости, то есть фактора, заставляющего обращаться именно к этим, достаточно экзотичным для философского познания категориям,—является одной из целей настоящей статьи. Реализовать ее мы постараемся сквозь призму анализа такого раздела русской философии, как философия истории; особое
womaninrussiansociety.ru
以上显示的是最相近的搜索结果。 查看全部搜索结果